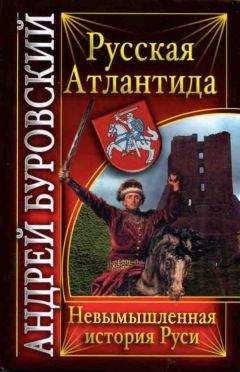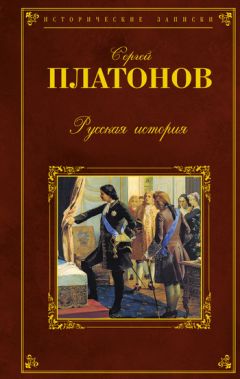Г. П. Федотов - Русская религиозность
Орудиями этих искушений и страхований являются бесы. Они играют в Патерике несравненно большую роль, нежели в житии преподобного Феодосия. Они принимают то человеческий вид (в образе Василия соблазняют Феодора), то ангельский, искушая затворников. Матфей видит беса в церкви в образе ляха, бросающего в монахов цветы, от которых они ослабевают в молитве. В другой раз он видит целое стадо бесов, едущих на свиньях «за Михаилом Тобольковичем» — неким монахом, который осмелился выйти за монастырскую ограду. Демонология в такой же мере характерна для киевского Патерика, как и для патериков Египта.
При остроте искушений и напряженности аскетической борьбы с ними понятна высокая оценка страдания и его очистительной силы. Наиболее отчетливо это выражено в житии Пимена Многотерпеливого. Больной от рождения, юноша не желает исцеления: «просил себе не здоровья, а усиления болезни». И его молитва оказалась сильнее молитв всех иноков монастыря, молившихся о его здравии. Чудесно в видении постриженный ангелами — «светлыми скопцами», он остается на всю жизнь лежать в монастыре в неизлечимом недуге, вызывавшем отвращение у братьев, ходивших за ним. После двадцатилетних страданий, в день своей смерти, он встал с одра болезни и, обойдя все кельи, поклонился в церкви у гроба святого Антония, как бы указывая этим на своего учителя.
Житие Моисея Угрина — повесть о бесконечных страданиях пленника в Польше, отстаивающего свое целомудрие от любовных покушений знатной вдовы. Евстратий, тоже пленник, распятый евреем в Крыму, — по–видимому, за отказ принять закон Моисеев, — мученик за веру христианскую. Но Никон Сухой, находясь в длительном плену у половцев, просто отказывается заплатить выкуп и подвергается истязаниям, полагаясь на волю Божию. Кукша, просветитель вятичей, убитый язычниками, Григорий, Феодор и Василий, умерщвленные русскими князьями, — все они страстотерпцы и мученики, вольные и невольные, перечисленные среди прочих святых киевского Патерика. Но это скорее выражение крайностей аскетизма, чем смиренное следование Христу на путях самоотверженной любви.
Интересно поближе рассмотреть характер аскезы, представленный в Патерике. Он не характерен только для Киевской или даже русской школы духовной жизни. Он относится к общей и незыблемой традиции восточного христианства, отличающей его от западного. Как бы ни были ужасны и бесчеловечны аскетические подвиги Востока, они никогда не доходят до прямого, сознательного причинения самому себе острой боли или телесных ранений. Здесь не встречается бичевание, кровопролитие. В Западной Европе самобичевание получило широкое распространение со времен итальянского отшельнического движения Χ–ΧΙ веков. Еще в V столетии юный Бенедикт Нурсийский бросался обнаженной грудью на терновник, чтобы преодолеть плотские искушения. Эта борьба остается главной целью и восточного аскетизма, но средства иные. Плоть должна изнуряться, истощаться, должна — насколько возможно — утратить жизненную силу. Технически об этом говорится как об «изнурении» или умерщвлении — в ужасающе буквальном смысле. Чтобы высвободить духовное бытие, жизнь должна стать непрерывным умиранием тела. Совершенный монах — это живые мощи. Именно поэтому святой монах на Востоке именуется «старцем», стариком (γερόν). «Постничество» или «трудничество» часто используются как общие синонимы аскезы, особенно в древнерусском или старославянском языках, не принявших греческого выражения ascesis. При более глубоком изучении религиозных основ обнаруживается, что идея распятия лишь в малой степени определяет восточный путь аскетизма. Подражание Христу останавливается перед Его страстями, из религиозного страха отказываясь от созерцания Его ран. Что касается аскезы, то распятие сохраняет лишь то моральное значение, которое оно имело для апостола Павла: «распятие плоти со страстями и похотями» (Гал. 5, 24). Не крест Христов, а гроб, свой собственный, а не Христа, предстает воображению аскета. Очень часто в иноческой келье действительно устанавливается гроб. Это иллюстрирует «памятование смерти» Кирилла Туровского. Пещерная жизнь киевских затворников особенно подходила для загробных размышлений.
В киевском патерике не обнаруживается никаких следов мистической жизни. Затворники, у которых можно было бы ожидать созерцательного склада мысли, кажется, полностью погрузились в аскетическую борьбу с бесовскими силами. Если в Киеве и теплилась какая‑то мистическая или чисто созерцательная жизнь, она не нашла описателя. Было бы опрометчиво делать заключения о практике мистической «Иисусовой молитвы», рекомендованной Феодосием и практиковавшейся Николой Святошей: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Действительно, в более позднем русском мистицизме, начиная с XIV столетия, эта молитва послужила отправной точкой для достижения высоких мистических состояний. И все же, во все времена, вплоть до сегодняшнего дня, она используется в Восточной Церкви и духовенством, и мирянами в повседневной жизни как средство удерживания ума от рассеянности. Было бы абсурдно приписывать Николе мистические устремления. Это была натура крайне деятельная, склонная к постоянным трудам и смиренному служению.
Эти наблюдения, сделанные при изучении одного литературного памятника, могут быть расширены. В творениях или преданиях домонгольской Руси не обнаруживается следов мистической жизни. Этот факт косвенно подтверждается отсутствием переводов греческой литературы, расцветшей в XI веке. Величайший из греческих мистиков, константинопольский монах Симеон, по прозвищу Новый Богослов, жил во времена обращения Руси. Его творения не оставили следов в Древней Руси вплоть до XIV века, несмотря на довольно тесные связи между киевскими и греческими обителями.
При внимательном рассмотрении в обители преподобных Антония и Феодосия прослеживаются два течения духовной жизни: одно подземное, аскетико–героическое, связанное с пещерным затворничеством; другое — «наземное», смиренное, послушливое, каритативное. В Патерике преобладает традиция Антония. Разделение этих двух образов жизни не всегда возможно, как показывают многие выше приведенные жития святых; однако они противостоят друг другу. В легендарном обличии они, быть может, разительнее всего воплощаются в двух фигурах: Марке Пещернике и Алимпии Иконописце.
Один — суровый старец, весь век проведший под землей в послушании гробокопателя, в странной фамильярности со смертью: он воскрешает на несколько часов покойников, пока не готова могила, заставляет их переворачиваться, чтобы подправить могилу. Суровый к живым, он готов карать их за злое движение сердца и указывает им путь слезного покаяния.
Другой — светлый художник, тоже труженик, не дающий отдыха своей руке; нестяжатель, раздающий бедным свою награду, оклеветанный, преследуемый монахами, но всегда кроткий, никого не карающий, возлагающий надежды на небесные силы. Его чудесные краски совершают исцеление прокаженного, и ангелы во плоти пишут за него иконы.
Интересно проследить эти две линии духовной жизни еще глубже, помимо двух основателей Печерского монастыря, до самых истоков восточного монашества. Что касается Феодосия, то его родство с палестинским типом аскетизма и даже прямая зависимость от него уже указывались. Ближайшим его прототипом служит святой Савва. Палестинская традиция — гармония молитвы, труда и служения миру, прежде чем она достигла Феодосия, прошла через Студийский устав и обогатилась строгой организацией общежития. Последний, студийский элемент— порядок и структура— проявился на Руси весьма скупо. После смерти Феодосия в киевской обители не обнаруживается его признаков. Тем сильнее был третий элемент — личное влияние Феодосия и его кенотического понимания христианства.
Генеалогия Антония не столь ясна. Очевидно, он считал себя учеником греческих отшельников горы Афон. Действительно, он провел там несколько лет, и один из источников, «Повесть временных лет», связывает историю киевского монастыря со Святой Горой. «Благословение Святой Горы» многократно упоминается Антонием. Однако русская школа Антония имеет крайне мало общего с классической греческой традицией, представленной Студийским уставом. Афон всегда занимал исключительное место в греческом монашестве: место суровейших аскетических подвигов и одинокой созерцательной молитвы. К сожалению, об укладе жизни на Святой Горе во время пребывания на ней Антония в первой половине XI столетия известно мало.
Ближайший литературный прототип Антониевой школы обнаруживается не в Греции, а в древней Сирии V столетия, в агиографическом труде Феодорита Кирского «Религиозная история». Сирийские святые аскеты были хорошо известны на Руси, поскольку все главы книги Феодорита вошли в славянский «Пролог». По литературным каналам или благодаря влиянию Афона сирийский идеал отшельничества проник в Киев и наложил заметный отпечаток на киевское монашество. Он сказывается в суровости, почти сверхчеловеческой телесной аскезе и духе непрерывного покаяния, внешним признаком которого является слезный дар. Мистики нет, созерцание отсутствует. Имеется, однако, существенное внешнее отличие между Сирией и Русью. Большинство сирийских отшельников селилось на горных вершинах: этот факт связан с древнесирийским, а также библейским культом святых гор. Пещерная жизнь учеников Антония, хотя и известная Сирии, находит ближайшую параллель в Палестине, где она, однако, имела совершенно иной смысл. Пещера Палестины, открытая свежему воздуху, красоте природы, служила просто укрытием от солнца, «богосозданным» (θεόκτιστος) домом. Киевские пещеры, напротив, — подземные катакомбы, темные и сырые, — «скорбне суще», как казалось Феодосию, — становились дополнительным средством аскетического умерщвления плоти. Мы можем утверждать, что школа Антония представляла на Руси сирийскую традицию, точно так же, как школа Феодосия — палестинскую, причем обе восприняты через греческую традицию Студийского и Афонского монастырей.